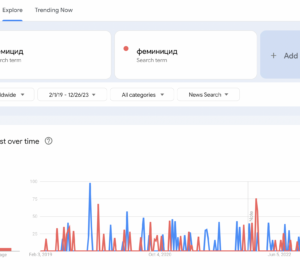Светлана Василенко:
В 1988 году в России появилась литературная группа женщин-писательниц “Новые амазонки”. Осмелюсь утверждать, что это первая группа в России за всю ее долгую историю женщин-писателей, осознавших, что они являются именно женщинами-писателями и что они творят именно женскую литературу.
В манифестах группы к сборникам “Не помнящая зла” и “Новые амазонки”, которые группа выпустила в 1990 и 1991 годах, говорится: “Женская проза? А что это такое? На какого читателя рассчитана? Стоит ли вообще делить художественное творчество на мужское — женское, не лучше ли следовать привычной шкале оценок плохо — хорошо? Отвечая на вопросы скептиков, в том числе и противоположного пола, мы говорим вполне утвердительно: женская проза есть. Она существует не как прихоть эмансипированного сознания, во что бы то ни стало пытающегося возвести самое себя в категорический императив. Она существует как неизбежность, продиктованная временем и пространством”.
В тех же манифестах прослежен и генезис женской прозы: “… амазонка так и не вышла из гоголевской шинели. Вот все вышли, а она нет”. “Эта проза захватывает обширные географические территории, различные социально-бытовые и жанровые сферы: от Жорж Санд до Маргерит Юрсенар и Вирджинии Вульф, от Натали Саррот до Агаты Кристи. Мы не говорим уже о славной отечественной традиции — от графини Ростопчиной до Татьяны Толстой, между именами которых по праву занимают свое место и Авдотья Панаева, и Зинаида Гиппиус, и Ольга Форш, и Вера Панова, и Ия Грекова, и Людмила Петрушевская”.
И далее в манифесте дается объяснение: что же это такое — женская проза: “Женская проза есть — поскольку есть мир женщины, отличный от мира мужчины. Мы вовсе не намерены открещиваться от своего пола, а тем более извиняться за его “слабости”. Делать это так же глупо и безнадежно, как отказываться от наследственности, исторической почвы и судьбы. Свое достоинство надо сохранять, хотя бы и через принадлежность к определенному полу (а может быть, прежде всего именно через нее)”.
Как мы видим, в этих манифестах “новых амазонок” вполне сознательно и определенно выражены идеи радикального феминизма (см. концепцию Адриенны Райх о женской “инакости”, уникальности женского мира и женской культуры, противопоставленной установкам классического мужского сознания, в ее статье “О рождении женщины: материнство как опыт и интуиция” (1976)).
В 1988 году набирала темп “перестройка”, журналы выходили миллионными тиражами, открывая читателям запрещенную литературу, произведения Солженицына, Шаламова, Войновича, Андрея Платонова, прорвались на страницы журналов представители “другой” неофициальной литературы, альтернативной соцреализму: Венедикт Ерофеев, Виктор Ерофеев, Евгений Попов, Вячеслав Пьецух. Но как и раньше, в глухое осеннее время застоя, так и теперь, в весеннее время перемен, никто и слыхом не слыхал о таком понятии, как феминизм. Как я сейчас понимаю, идеи феминизма держали от нас за семью запорами, боясь их больше, чем идей антикоммунизма, так как они потрясали не только социальные основы, а основы основ мироустройства нашей патриархальной страны. Феминизм был понятием ругательным, им обозначались какие-то уродливые, противоестественные явления западной жизни, о которых можно говорить только шепотом. Слово “феминистка” звучало как оскорбление.
Тем более интересно понять, как же появилась в столь антифеминистски настроенном обществе группа с такими радикальными феминистскими идеями?
Началось все вот как.
В один из дождливых майских дней 1988 года в Центральном Доме Литераторов на первой конференции, посвященной экологии, я встретила прозаика Ларису Ванееву. После московского совещания молодых писателей мы не виделись с ней пять лет. Тогда, пять лет назад, она поразила всех своей сияющей гордой красотой, длинной русской косой до пят и своей блестящей резкой прозой. Сейчас же она сидела где-то сбоку, стесняясь и как будто чего-то боясь, поникшая, без косы, бедно одетая. Я испуганно смотрела на нее и тот же испуг я прочла в ее глазах — я была ее зеркальным отражением: тот же поникший ободранный вид, тот же потухший взгляд. “Что с тобой случилось?” — спросили мы друг друга одновременно.
Так что же с нами случилось? Что же случилось со мной?
Пять лет назад я закончила Литературный институт, закончила с отличием, мой институтский рассказ “За сайгаками” был напечатан в “Литературной учебе” и сразу принес мне известность и даже славу в литературных кругах, критики назвали его лучшим рассказом года — казалось, литературная и профессиональная будущность мне обеспечена. Но после института я столкнулась с довольно стойким и мощным сопротивлением. Меня не брали на работу в редакции журналов; главные редакторы, в основном мужчины, оглядывали, говорили: “Вы молодая женщина. Вдруг уйдете в декрет? Мы вас понимаем, но поймите и нас!” Я понимала и уходила все дальше и дальше, все ниже и ниже. В результате с отличным дипломом, который давал мне право поступить в аспирантуру, но куда меня не взяли из тех же соображений, что я молодая женщина и могу вдруг родить, я оказалась на самом низу социальной лестницы: я устроилась на такую экстравагантную работу, как заливать зимой катки во дворах для детей. В страшные морозы я стояла со шлангом в руках, из которого била струя и сочиняла очередной рассказ. Но это не главное. Мы были фанатиками литературы, фанатиками прозы, для многих из нашего поколения писательский труд — свят, он похож на почти религиозное служение Слову. И поэтому работать можно было где угодно и кем угодно, лишь бы было время и небольшие средства для писательства, для служения. Но тут меня поджидали неожиданности. Редакции, куда я относила свои рассказы, мне стали отказывать. Редакторы-мужчины говорили мне: “Это бабья проза! Пойми, мы не можем печатать все эти ваши бабьи вопли-сопли!” Или: “Ты пишешь о женщинах. Но ваши чисто женские проблемы никому не интересны”. Иногда просто нарывалась на грубости: “Ты пишешь, как будто вечно беременная!” Или: “Нас не интересует женская психопаталогия”.
Это было похоже на травлю. От этого можно было впасть в уныние и сойти с ума. Потому что все эти слова говорили мне не чужие люди, а мои же бывшие однокурсники, с которыми мы только что учились в Литинституте на одном семинаре прозы, и они писали похуже, были троечниками, и всегда очень высоко отзывались на этих же семинарах о моей прозе, но, получив властное место в редакции, говорили уже не свои слова, а слова общепринятые: “Женщина не может написать полноценную художественную вещь. Это доказала мировая история литературы. Все имена женщин, оставшихся в истории литературы, — исключения. Исключения и Цветаева, и Ахматова”.
Уже началась перестройка, а наши мужчины продолжали вести эту политику дискриминации. Уже напечатали Татьяну Толстую и Людмилу Петрушевскую, прорвавшихся на страницы благодаря не только своему таланту, но и своему бурному темпераменту, но это были именно те исключения, подтверждающие правило, — по словам тех же редакторов-мужчин, которые в это время даже сплотились в нежелании пропустить на страницы еще кого-нибудь из женщин.
Я впала в отчаяние. Если раньше, до перестройки, меня не печатали по соображениеям цензуры (и это казалось временным), то сейчас не печатали, потому что я женщина (и это навечно). И свою прозу я не могу переделать в мужскую, не хочу. Значит, нужно покончить с писательством? Я даже поступила тогда на курсы сценаристов и режиссеров, чтобы уйти из прозы.
… Вот в такой момент я встретила Ларису Ванееву. Оказалось, что все мои проблемы (а я считала, что только я пишу такую прозу, которую называют бабьей) были и ее проблемами. Так же, как и я, она не могла найти работу по специальности после Литературного института и работала сторожем на стройке. Ее прозу один редактор назвал (и это неслыханно по своему хамству!) “менструальной”, и заверил, что она не будет напечатана, пока он жив.
Мы грустно вспоминали талантливых литинститутских девочек (в Литературном институте, где готовили будущих поэтов, прозаиков, критиков, переводчиков всегда, даже в годы застоя, царил дух настоящего, дух правды, дух прекрасного, дух высокой литературы, здесь не было группировок, писатели делились не на правых и левых или мужчин и женщин, а по принципу — талантливые и бездарные): Галя Володина, ученица Юрия Трифонова, работает дворником, не печатается, Нина Садур, прекрасный драматург и прозаик, работает уборщицей в театре, ее не печатают, Ирина Полянская судится с редактором, который не публикует ее книгу, стоящую в плане издательства, где-то бродит ненапечатанная Валерия Нарбикова, хотя все ее друзья по андерграундной тусовке напечатаны, и не раз — потому как мужчины, где-то в Перми голодает Нина Горланова с четырьмя детьми, хотя в столе у нее лежит несколько романов, которые издательства не хотят печатать, сторожем работает Елена Тарасова, чья повесть “Не помнящая зла”, тоже нигде не напечатанная и написанная еще до Литинститута, сделала ей громкое имя…
Перебирая имена тех писательниц, с кем учились, вспоминая их талантливые, нигде не опубликованные тексты, мы вдруг осознали, что стали жертвами мужского шовинизма, что идет война, что наши жизни, наши судьбы, наша проза — дело всей нашей жизни, растоптаны мужским безжалостным (как на войне, тут не жалели никого, даже самых талантливых) сапогом. Только такие же воинственные и в чем-то мужские по характеру Толстая и Петрушевская выжили в этой войне благодаря тому, что приняли правила этой мужской игры-войны и перешли на их поле.
Осознав, что дальнейшее наше выживание как писателей зависит только от нас, от наших совместных усилий, что в одиночку нам не пробить стену мужских предрассудков и прямого мужского противостояния, мы тогда же, в тот же вечер решили начать действовать: мы решили собрать неопубликованные талантливые рукописи еще никому не известных женщин-писателей и попробовать издать их в сборнике новой женской прозы.
Мы решили бороться, а не ждать, пока погибнем поодиночке. Лариса Ванеева произнесла тогда историческую фразу: “Я заметила, что если женщины начинают работать вместе, то их силы растут не в арифметической, а в геометрической прогрессии”. И это было действительно так.
Работа, как говорится, закипела. Мы читали огромное количество рукописей, которые нам приносили истосковавшиеся по публикациям женщины-писатели. В один из дней недели мы с Ларисой занимали столик в литературном кафе “Пестрый зал” Дома Литераторов, садились, и к нам в этот день подходили и подходили женщины со своими рукописями.
Зрелище для остальной (в основном мужской) части публики было угрожающим. Стереотип поведения в таком поэтическом кафе был другой: обычно одна-две поэтессы, кокетничая, сидели в окружении мужчин-писателей, слушая их излияния. Сначала и к нам пытались подходить, как к обыкновенным женщинам, пришедшим в кафе пофлиртовать, пытались превратить нашу непонятную женскую компанию, занятую делом, в компанию приятных дам для развлечений, но встречая раз за разом вежливый, но твердый отказ, — присмирели. Это была наша первая маленькая, наивная, кое в чем даже смешная, но важная победа в борьбе за независимость.
Довольно быстро все женщины — будущие авторы сборника — перезнакомились, а потом и подружились: ведь все мы были, как я уже говорила, родом из Литинститута. Может быть, поэтому не было зависти и соперничества, а наоборот, царил дух товарищества и взаимопомощи: ведь мы были монахинями одного ордена, который назывался — Русская литература.
Постепенно вырабатывалась концепция сборника.
Этим сборником мы хотели заявить о себе как о принципиально новой группе писателей — женщин-писателей, группе молодых, тридцатилетних, образованных, самостоятельно мыслящих, независимых женщин-писателей, пишущих новую женскую прозу.
Этим сборником мы хотели доказать, что пишущая женщина в наше время — не исключение из правил, а потребность времени — само время нуждается в пишущей и творящей женщине: доказательство — это то, что нас так много, что мы идем группой, не поодиночке. Ни одно время не рождало сразу столько женщин-художников, значит, оно в нас нуждается.
Мы хотели доказать мужчинам-писателям, мужчинам-редакторам и просто мужчинам, что мы есть и что мы пишем ничуть не хуже, а может быть, даже в чем-то и лучше, чем пишущие мужчины.
Этим сборником мы должны были доказать, что женская проза так же разнообразна и так же талантлива, как и мужская. Поэтому отбор произведений был чрезвычайно суров и придирчив: в сборник должны были войти произведения всех существующих ныне направлений: авангарда, постмодернизма, нового реализма, модернизма, нового сентиментализма и др.
Этим сборником мы должны были доказать, что женская проза — явление уникальное, непохожее ни на что. Мы это называли так: “Великая немая заговорила”. Под Великой немой мы подразумевали женщину, молчащую тысячелетия. Уникальный мир женщины, мир ее чувств, ощущений, ее миросозерцание, ее объяснение мироустройства, вылившиеся на бумагу, уже само рождало новое направление — направление направлений, называвшееся просто и емко — женская литература.
Тут надо сказать, что мы не знали тогда, что такое феминизм, мы не знали тогда, что в мире существует огромное женское движение, мы не знали, что в мире уже есть такое понятие, как женская литература. Мы изобретали велосипед, думая, что мы изобретаем его первые. Мы все делали с энтузиазмом первооткрывателей. И поэтому, если бы в мире не было бы ни женского движения, ни феминизма, ни женской литературы, их все равно создали бы, создали бы мы в России.
После выхода первого сборника “Не помнящая зла” мы были очень удивлены, когда на нас обрушился целый шквал предложений и приглашений от зарубежных женских издательств, женских обществ, когда новой русской женской прозой заинтересовались слависты западных университетов, и мы узнали, что, оказывается, в мире все уже есть, все то, за что мы с таким надрывом боролись, до чего после стольких мучительных лет сомнений и слез мы дошли своим умом: есть женское движение, есть феминизм, есть женская литература, которая так и называет себя, как и мы ее назвали — женская…
Но я забежала вперед. Тогда мы ничего этого не знали и действовали наощупь, интуитивно. Долго выбирали название сборника. Назвали по названию повести Елены Тарасовой — “Не помнящая зла”. А группу назвали — “Новые амазонки”. С одной стороны, мы, как истинные женщины, не помнили зла никому: ни времени, ни мужчинам, которые продержали нас, как красных девиц, взаперти, вдали от читателей добрый десяток лет. С другой же — осознав мужское коварство, мы собирались бороться за свои женские и литературные права и взяли такое понятное всем и воинственное название — “Новые амазонки”.
Долго искали издательство (тогда они все еще были государственными), которое бы издало сборник. Пока искали и тыкались в разные издательства, у нас позаимствовали идею — вышли сборники женской прозы “Женская логика” и “Чистенькая жизнь” (изд. “Современник” и “Молодая гвардия”). Но увели неумело, бессмысленно: просто собрали под одной обложкой произведения женщин и — не понимая зачем это сделали, противореча себе в том, что сделали, — в предисловии написали: “На каком-то “ниже среднего” уровне, конечно, происходит разделение “женской” и “мужской” прозы” (“Чистенькая жизнь”).
Мы же искали такого издателя, который стал бы нашим союзником. Мы искали женщину-издателя. И нашли — в издательстве “Московский рабочий”. В то время это было самое смелое, самое “перестроечное” издательство. Оно к тому времени издало книги писателей — представителей андерграунда: Евгения Попова, Виктора Ерофеева, Вячеслава Пьецуха и других. Вот это смелое издательство и взялось издавать нашу смелую книгу. Нашлись и смелые женщины — зав. редакцией Сурова и редактор Наталья Рыльникова, которые прониклись нашей идеей — сделать книгу, не похожую ни на какую другую, и стали нашими союзницами. С ними мы выпустили и второй сборник “Новые амазонки”, в который вошли не только проза, но и стихи женщин, а также пьеса Нины Садур.
В первый сборник “Не помнящая зла” вошли произведения Ларисы Ванеевой, Валерии Нарбиковой, Нины Садур, Нины Горлановой, Ирины Полянской, Светланы Василенко, Светланы Васильевой, Елены Тарасовой, Натальи Кореневской и Галины Володиной.
Во второй сборник “Новые амазонки” вошли произведения как выше названных писательниц, так и других, известных и неизвестных писательниц и поэтесс: Татьяны Толстой, Марины Палей, Татьяны Набатниковой, Марины Вишневецкой, Нины Искренко, Эвелины Ракитской, Людмилы Абаевой, Ирины Гривниной, Татьяны Морозовой (которая к тому же и оформляла книгу как художник).
Группа же “новых амазонок” (не путать со сборником), которая и вырабатывала концепцию женской литературы и новой женской прозы в частности, состояла из нескольких человек: прозаиков Ларисы Ванеевой, Светланы Василенко, Валерии Нарбиковой, Ирины Полянской, Светланы Васильевой, Нины Горлановой, Елены Тарасовой, прозаика и драматурга Нины Садур и поэтессы Нины Искренко.
Мы были очень разные. Читатели и поклонники прозы одной из нас терпеть не могли прозу другой.
Проза Валерии Нарбиковой (которая дебютировала в журнале “Юность” романом “Равновесие света дневных и ночных звезд”, а в сборниках представлена романами “Ад как Да и аД как дА” и “Около эколо”) — это, несомненно, проза авангарда. Родословную свою она ведет не только и не столько от модернистов Джойса и Генри Миллера (хотя их творчество и было первотолчком для ее прозы), а от великого авангардиста начала века Велимира Хлебникова. Природа их дара одна — словотворчество. И в то же время авангардизм Нарбиковой чрезвычайно женственен, капризен, прихотлив. Нарбикова напоминает мне непоседливую девочку, которая неустанно готова ломать слова, откручивать им головы, руки и ноги, как у куклы, и прикручивать другие, заглядывать, что там у них внутри. И в то же время она похожа также на Марию Кюри, женщину-ученого, расщепляющего атом слова, добиваясь от слова — той, почти ядерной, сверхэнергии. Нарбикова ищет смысл не во фразе, а в слове, в атоме слова. И слово взрывается у нее в руках…
Проза Ларисы Ванеевой (в сборниках она представлена повестью “Между Сатурном и Ураном” и романом “Антигрех”) — это проза модернистки. Ее фраза, полная таинственного мерцающего смысла, то бродит по лабиринтам женского подсознания, то улетает, но опять же по лабиринтам, теперь небесным, в метафизическую высь. Загадочная проза, проза Прекрасной Дамы, которой как символу новой веры грядущего века поклонялись и ожидали ее прихода наши первые феминисты — русские символисты начала века Владимир Соловьев, Александр Блок, Андрей Белый. Прекрасная Дама в лице Ванеевой пришла и говорит…
Проза и драматургия Нины Садур (цикл рассказов “Проникшие” и пьеса “Красный парадиз”) основаны на фольклоре. Но это не тот собранный в научных экспедициях фольклор, не разученный в ансамблях самодеятельности, а фольклор (суеверия, видения, заговоры, причитания, распевы, сказания) самого женского естества, его нутряной силы и интуиции, самой земли, прапамяти, праматери Природы и Человека, когда расступаются скалы и из них хлещет человеческая кровь, как в пьесе “Красный парадиз”.
Елена Тарасова — представительница неонатурализма (повести “Не помнящая зла” и “Ты хорошо научился есть, Адам”). Разлагающаяся, мерзкая, смердящая плоть героини ее повести “Не помнящая зла”, описанная с грандиозным натуралистическим мастерством, может служить метафорой разлагающегося древнего мифа о женщине как о вместилище пороков, сосуде диавола, мифа, преследующего женщину на протяжении многих веков, но она не помнит зла…
Ирина Полянская (рассказы “Площадь”, “Сельва”, “Жизнь дерева” и повесть “Чистая зона”) в своем творчестве напоминает нам о старом добром сентиментализме. То, что сентиментальность — черта чисто женская, мы знаем, но то, что даже родившись в закрытой зоне, где ставятся генетические опыты над живыми, моделируя условия послеядерной катастрофы, можно остаться доброй, прекрасной, возвышенной, сентиментальной, — это мы узнали только от Ирины Полянской, и это назовем новым русским сентиментализмом.
Совсем по-другому реагирует на приближающуюся катастрофу, на конец света мать четверых детей, пермячка Нина Горланова (“Покаянные дни, или в ожидании конца света”). Как положено матери, ее героиня, в которой угадывается сама Нина Горланова, чего она и не скрывает, с утра до вечера занимается тем, что ищет, чем накормить детей. Поиски эти описаны документально, во всех подробностях, это почти дневниковые записи. И только грозно в эти будни, как хор в древнегреческих трагедиях, врываются сообщения (тоже документальные) из местной газеты: скоро прорвет плотину и город затопит. До катастрофы осталось месяц, неделя, три дня, день, несколько часов… Нине Горлановой удалось совместить несовместимое: документальное повествование со всеми подробностями постсоветсткого нищенского быта неожиданно перерастает в трагедию, в ожидание конца света…
Конец света — это, по-видимому, любимая тема русских писательниц. Трагедия — любимый жанр. Почему? Расскажу о себе.
Я родилась на Волге в секретном ракетном городе, окруженном колючей проволокой. Отец мой был военным и он мог быть именно тем человеком, который во время Карибского кризиса в 1962 году, во время противостояния Хрущева и Кеннеди, чуть было не приведшего к ядерной войне, нажал бы на кнопку и мир был бы уничтожен. Много позже я спросила его, что они делали, о чем думали, сидя там, в бункере, перед этими кнопками, перед концом света? Он подумал немного и сказал: “Мы играли в преферанс”. Я ожидала чего-то невероятного, какого-то откровения ожидала я от человека, который мог уничтожить мир. Оказалось так буднично. Потом я поняла, что да, именно так и должно было быть: перед тем как пустить пулю миру в лоб — играют — как у Куприна — в преферанс. Так и должно было быть — это логика развития мужского агрессивного военного сознания (где нет разницы между советским и американским) до полного уничтожения.
Женщины же в это время спасали нас, детей, уведя далеко в степь, подальше от городка, по которому и был бы нанесен первый ракетный удар.
Только одна воспитательница с восторгом кликушествовала, говорила нам, детям: “Вам выпало огромное счастье, дети, вы ядерные заложники. Мы погибнем от первого ракетного удара, но мы будем первые и единственные жертвы с нашей стороны. Дальше наши ракеты уничтожат в считанные минуты Америку и мы, хоть уже и мертвые, станем героями”.
В темноте, так как нельзя было разжечь костер и дать наводку врагу, мы шуршали фантиками из-под шоколадных конфет и ели, давясь, шоколад и мандарины, приготовленные для новогодних подарков, которые нам раздали в целлофановых мешочках, — вместо сухого пайка. Всю ночь мы просидели в степи в ожидании смерти. Я запомнила вкус ожидания смерти — сладкий, приторный, шоколадный, его запах — едких мандариновых корок и полыни, на слух оно было детским шептанием, шуршанием, шевелением, на вид — звездным небом, полным круглых ярких звездочек, увеличенных слезами, через которые мы на него смотрели… Было так страшно.
Я подробно остановилась на этой сцене моего детства, так как считаю, что истоки моего феминизма находятся именно здесь. В ту ночь я всей собою поняла и запомнила: “Мужчины (даже мой любимый папа) уничтожают мир, женщины его спасают”.
Вот и вся наша группа новых амазонок, теперь уже рассыпавшаяся, старалась спасти этот мир словом. Что-то у нас получилось. После выхода сборников женскую прозу признали. Женщины могут печататься в России свободно, им никто не скажет, что женщина-писатель — это исключение.
Группа распалась. Лариса Ванеева ушла в религию, но пишет православные рассказы, Валерия Нарбикова активно работает в литературе, написала уже восьмой роман, Ирина Полянская опубликовала два больших романа в журнале “Новый мир”, Нина Горланова в 1996 году вошла со своим романом в шорт-лист Букеровской премии. Пишет Нина Садур. Я много работаю как в прозе, так и в кино.
Мы сделали свое дело, и теперь в тишине можем спасать мир поодиночке. Нам никто не мешает. Если же будут мешать, мы опять соберемся вместе. Опыт совместной борьбы и работы у нас есть…
Источник: Василенко С. «Новые амазонки» (Об истории первой литературной женской писательской группы. Постсоветское время) // Женщины: свобода слова и творчества: сборник статей. – М.: Эслан, 2001. – 200 с. СС. 80-89.